

|
|
|
|

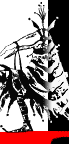
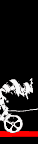
|
|
|
Сезоны
|
Актёры покажут его лишь раз26 ФЕВРАЛЯ В «ТЕАТРЕ НА СПАССКОЙ» В РАМКАХ «ПРОЕКТА [80]» БЫЛ ПРЕДСТАВЛЕН СПЕКТАКЛЬ-ПЕРФОМАНС «MIDEA». ЗАИНТРИГОВАННАЯ ПРЕДПРЕМЬЕРНЫМ ТРЕЙЛЕРОМ, НС НЕ МОГЛА ПРОПУСТИТЬ ТАКОЕ СОБЫТИЕ. «Актёры покажут его лишь раз, а зритель наверняка запомнит надолго», – смотришь зазывающие новостные ролики про спектакль «Midea» и удивляешься тому, что ведь как в воду глядели. «Проект [80]: Midea» был заявлен как спектакль-перфоманс. В его основу положены пьесы «Медея» и «Вакханки» древнегреческого драматурга Еврипида. По сути, он продолжает траекторию, начатую режиссёром ещё со времён спектакля «Мюнхгаузен», восхитившего зрителей новаторством своего высказывания, преобразованием формы, обозначенным введением в тело спектакля системы сторителлинга. «Midea», причудливо написанная латиницей и уже с этого момента приглашающая к постмодерновой индивидуальной расстановке смыслов (например, «Media», «Idea» и «My idea», – вариации автора статьи), идёт дальше и практически полностью разрушает пресловутую «четвёртую стену» между актёрами и зрительным залом. Смело приуроченная к столетию Февральской революции, она навевает предчувствия противоречивые и беспокойные (а какие должна?), в которых тайным огнём всё-таки горит интерес. А люди, удобно усевшиеся в парадных театральных креслах и терпеливо ожидающие начала, в одно мгновение ощущают себя заговорщиками. Дальше – больше. Театр оборачивается зеркалом, и в каждом действии актёров какое-нибудь «я» в зале уже узнаёт себя – настолько верна идентификация, нарочито ими транслируемая. Сначала нам показывают и дают услышать ШУМ – в чистом виде, какой он есть, задействуя для глубокого погружения в суть все органы восприятия: мы видим слово «ШУМ», многократно повторяющееся на экране, слышим радио-помехи – да и вообще становимся свидетелями прямого и довольно грубого высказывания, но таким образом попадающего не в бровь, а в глаз: ведь только наивный бы не понял, что речь в первую очередь идёт об информационном шуме и тотальной экспансии медиа-сферы, в которую он погружён. Вы ещё не заметили параллель с большевистскими собраниями, развернувшими активную лозунговую кампанию? Однако большевики это делали для того, чтобы ритмичными короткими высказываниями быть понятными малообразованному рабочему люду. Но что мы? Театр оборачивается зеркалом, и в каждом действии актёров какое-нибудь «я» в зале уже узнаёт себя – настолько верна идентификация, нарочито ими транслируемая. Неужели мы так же глупы и малообразованны, что можем переваривать только рубленые фразы на мониторе, висящем над сценой? Задумываешься, задумываешься и понимаешь, что… да. Вот он, мой когнитивный потолок – недлинный ТЕКСТ в тысячу символов на экране смартфона или на одну страницу компьютера без скроллинга. Всё, что свыше, – «многобукаф», и отложено на потом. А что в нём? А в нём то, что няня перерезала голову маленькой девочке, что школьницы изувечили животных, что в Забайкальском крае семилетняя девочка родила мутанта от тиранозавра, что мне обязательно надо прочитать «такой-то список книг до 20-ти лет» – и это сливается в один большой грязный поток и стихийно несётся, несётся, смывая на своём пути всё и вся. Шум отвлекает нас от собственного «я», от реальности, которая представляется размытой, почти неразличимой в тумане и оттого будто отрезанной. В кроваво-красном платье и среди красных полотнищ предстаёт Медея. Своим голосом она поднимает на дыбы пространство, восклицая: «Дети мои!!!» «Сын мой!!!», – взывая не то к защите, не то к жизни, не то сбивчиво говоря: «Это не мой ТЕКСТ, я не хочу его произносить». В миг прилаженная маска образа слетает с актрисы. «Это мой город, это моя Россия», – говорит уже другой актёр, и представляешь его не действующим лицом экспериментальной постановки, а заботливым папой, гуляющим по зимнему Александровскому вместе с сыном или дочкой. Деление на «моё-твоё» – ещё одна нить спектакля. Когда мы отчаянно кричим «Я!», перечёркивая все границы приличия и, оглушённые собственным ором, идём творить непотребства – и когда мы скромно заявляем «Мы…», силясь получить поддержку незримо стоящего за нашей спиной большинства? Наверное, тогда, когда мы встраиваем чужую точку зрения в канву своего восприятия, или наоборот, исключаем её. И вот Медею, ещё недавно глыбой стоящую на сцене, терзают непонятные герои в неопределённых театральных костюмах (предположительно варвары), выкрикивая знаменитые цитаты из каноничных драматургических текстов (и всё это время они продолжают расчленять и поглощать Медею!). В этом видится некий едкий реверанс в сторону классических репертуарных театров, которые видят и наблюдают одно, а делают другое. В этом же можно прочесть и безумие российской действительности (опять же грубо и прямо трактуемое через каннибализм), превратное переложение смыслов – и да, действительно вакханалию. А завершается всё чтением Пушкина! ТЕКСТОВ Пушкина. «Сказки о мёртвой царевне и семи богатырях», видимо, тоже специфическим образом перекликающейся с «Медеей». Всё, как в школе: актёры читают из книжек. После умопомрачительного буйнодейства началось обсуждение, обозначенное в начале как обязательная II часть спектакля, где любой желающий, движимый неразрешимой загадкой, оставшейся после I части спектакля, мог попытать счастья её разрешить – задав вопрос труппе, режиссёру, зрителям. И вопросы задавали. Один за другим, резонные, дерзкие, вопросы очерчивали позицию задающих, заставляя их буквально сиять в переливчатой игре смыслов и вгоняя в краску остальных безмолвных стесняшек. – Вы сами всё сделали для того, чтобы загнать нас в толпу, вы постоянно говорили: «Мы хор, хор, хор», – вы загнали нас в общий ящик, лишили индивидуального мнения, а цель театра – обратиться не к толпе, а к индивидуальному человеку, вызвать его мысли, – весомое заявление прозвучало из зала. И всё-таки я утверждаю, что театр и в этот раз обратился к конкретному человеку, главным образом через текст. ТЕКСТ в спектакле – именно ТЕКСТ, вот такой, капслоком, – это и вирус и вакцина. Чтение звучит в конце снова как лозунг, как призыв, немедля отсылая к книге и как бы говоря: «Спаси себя сам, и вокруг тебя спасутся тысячи». «Тысячи мыслящих индивидуальностей», – продолжаю я. Вы сами всё сделали для того, чтобы загнать нас в толпу, вы постоянно говорили: «Мы хор, хор, хор», – вы загнали нас в общий ящик, лишили индивидуального мнения, а цель театра – обратиться не к толпе, а к индивидуальному человеку, вызвать его мысли, – весомое заявление прозвучало из зала. И всё-таки я утверждаю, что театр и в этот раз обратился к конкретному человеку, главным образом через текст. ТЕКСТ в спектакле – именно ТЕКСТ, вот такой, капслоком, – это и вирус и вакцина. Чтение звучит в конце снова как лозунг, как призыв, немедля отсылая к книге и как бы говоря: «Спаси себя сам, и вокруг тебя спасутся тысячи». «Тысячи мыслящих индивидуальностей», – продолжаю я.
Ангелина Свинина Новая строка (издание о современной городской культуре и творческих людях) - 07 марта 2017 Читайте также Спасибо, что была: ушла из жизни Марина Карпичева, хрустальный голос кировской театральной сцены // «Вятский наблюдатель». - 24 июля 2017. Мэри Лазарева. Холодная красота электрических светил // «Вятский наблюдатель». - 08 июля 2017. Мэри Лазарева. Контемпорари разума // «Новая строка (издание о современной городской культуре и творческих людях)». - 30 мая 2017. Алина Пяткина. Чудо любви состоялось // «Портал Киров.ru». - 18 мая 2017. Ольга Дёмина. «Обыкновенное чудо» или «Чудо любви». В Кирове показали старую добрую сказку // «Интернет-портал Свойкировский». - 18 мая 2017. Ульяна Колпакова. |
|||
|
|